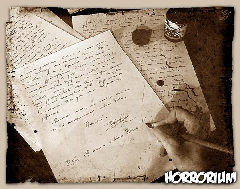Записка
Эта история абсолютно реальна. В своё время я поклялся себе не сомневаться в её реальности через какое бы то ни было количество времени — хотя было мне тогда всего десять лет. Но уже тогда я понимал, что с годами я буду сомневаться всё больше и больше. Поэтому встал посреди комнаты и дал себе слово — НЕ СОМНЕВАТЬСЯ! Это — случилось, это — на самом деле произошло, и всё. Точка.
В данной истории нет никаких страшных существ, жутких звуков и т. д. Она просто необъяснима, и этим меня пугает до сих пор. Пожалуй, сейчас пугает даже больше, чем тогда — дети легко отвлекаются от чего угодно, в том числе, от тревожных мыслей насчёт необъяснимого и загадочного. Взрослым сложнее…
Но по порядку. Я учился в четвёртом классе обычной московской школы. В моём классе среди мальчишек появилась тогда новая мода — плести из изолированного многожильного провода своеобразные плётки-двухвостки. На самом деле, как я потом узнал, это просто довольно-таки простой элемент макраме — берётся четыре провода, верёвки или т. п., связываются концами, после чего две из них определённым образом оплетаются вокруг вытянутых двух других, отчего быстро заканчиваются. В итоге получается плетёная «рукоять», из которой выходят два «хвоста плётки».
Такая плётка, сплетённая из многожильного провода, была относительно грозным оружием даже в детских руках. То, что мы ими не повыбивали себе тогда глаза — чистое везение. Попадание по бедру, икре или ягодице обжигало резкой болью и оставляло на теле багровые полосы даже через брюки школьной формы (дело было ещё в СССР).
Сплёл себе такую плётку и я. Естественно, захотел испробовать — прямо в квартире, вернувшись из школы (ага, додумался!..). В качестве мишени решил брать листы из старых, исписанных школьных тетрадей, отпускать их в воздухе и, пока они красиво планируют на пол, сечь их плёткой. Занятие, кстати, оказалось довольно интересным: листы планировали по сложным, труднопредсказуемым траекториям, при этом достаточно быстро опускаясь на палас. Так что попасть по ним, или, тем более, разорвать в воздухе ударом плети, было довольно трудно. Что, собственно, и вызывало у меня интерес и даже азарт.
Дома в этот момент у меня были только родители матери — старенькая бабушка и ещё более старый дед. Они сидели в своих комнатах и не выходили (деду так вообще уже ходить было трудно), а я, соответственно, отрывался в своей. Плётка хлопала по листам довольно громко, но я был уверен, что мне не влетит, даже если меня поймают за этим сомнительным занятием: уроки я сделал, а изводил на своё дурацкое развлечение и так уже исписанные (то есть ненужные) тетради… в общем, отрывался, как умел.
Однако исписанные тетради быстро кончились. А листы, уже смятые или порванные ударом плётки, как выяснилось, планируют заметно хуже гладких свежевырванных — и лупить их плетью уже не так интересно. В общем, запас гладких листов у меня быстро исчерпался — вместе с исписанными тетрадями. Поэтому, после некоторых колебаний, я принялся изводить уже чистые, неиспользованные тетради. Что, понятное дело, отчётливо попахивало грядущим наказанием, если родители узнают о том, чем я занимался. И тут уже не вывернешься.
Когда стало понятно, что количество чистых тетрадей уменьшилось до опасной величины — типа, ещё немного, и их недостача будет обязательно обнаружена — я решил-таки опять заняться листами, уже один раз попробовавшими моей плети. Эти листы я более-менее аккуратно складывал на журнальный столик именно за этой надобностью — как я уже написал выше, планировали они существенно хуже «нулёвых», но на безрыбье и рак рыба. Я, в общем, представлял, к чему всё идёт, поэтому сразу их и не выбросил — предполагал, что пригодятся ещё.
Внизу в этой куче лежали листы из исписанных тетрадей, наверху — из чистых, «нулёвых». Я взял один лист оттуда, «добил» его плетью, взял второй…
На третьем или на четвёртом листе я увидел карандашную надпись, выведенную аккуратным, каллиграфическим почерком (помню её с точностью до каждой буквы, каждого знака препинания): «Володя, слушай, не занимайся посторонними делами!». Надпись была отчёркнута линией снизу-справа, на отчёркнутом пространстве стояли инициалы-подпись: «В. Е.». Имя в записке было указано моё. Инициалы, как ни странно — тоже мои.
Эта надпись-записка произвела на меня впечатление внезапно появившегося привидения. Я так и замер, вцепившись в листок с ней. С тех пор я знаю, что такое «волосы на голове зашевелились».
Дело в том, что этой надписи на листе — уже один раз побывавшем мишенью для моей плети — РАНЕЕ ПРОСТО НЕ БЫЛО. Существовал ничтожный шанс, что она таки была — а я её просто не заметил, когда вырывал его из ЧИСТОЙ, НУЛЁВОЙ (!!!) тетради, когда пускал планировать над полом, когда, наконец, подбирал и клал на журнальный столик.
Проблема заключалась в том, что её, эту надпись, просто некому было написать. Теоретически, это мог бы сделать лишь кто-то из моих домашних — кто имел доступ к стопке моих чистых тетрадей, и решил таким образом надо мной подшутить. Так сказать, заранее, на всякий случай, меня одёрнуть. Но никто бы в этом случае не стал бы подписываться незнакомыми мне инициалами (а они были незнакомы: кроме как у меня, ни у кого больше в нашей семье таких не было). Да и почерк был мне незнаком — как пишут мои домашние, когда пытаются писать каллиграфически, я знал. Ничего похожего!
Мне было всего десять лет, но я мгновенно понял, что произошло нечто невозможное. Тут же забыв о своём дурацком развлечении, я сложил записку вчетверо, сунул её в нагрудный карман рубашки и стал ждать прихода родителей, чтобы расспросить их насчёт этой записки. Если бы это была их шутка — они бы, рано или поздно, в этом признались.
Периодически я доставал записку из кармана, перечитывал и прятал обратно. И ждал родителей.
Надо ли упоминать, что все мои домашние и сразу, и потом категорически отрицали, что писали мне какие-то записки в чистых (да и в любых других) тетрадях?.. А вот за мои «упражнения» с плёткой и перевод на макулатуру чистых тетрадок мне конкретно влетело…
Записку я носил в кармане рубашки до вечера. Потом рискнул спрятать её в одном из ящиков письменного стола (тайком от домашних, когда их не было в комнате). Спрятал, сунув на дно ящика, в один из углов. Но не выдержал и полез проверять через четверть часа.
Записки не было.
Я перерыл все три ящика — а также проверил пространство в столе, где они скользили, не завалилась ли туда.
Записки не было.
«Перерыл» — это значит, вытащил весь ящик, а затем все предметы из него — один за одним, не торопясь, проверяя каждый на случай возможного нахождения записки внутри оного предмета.
Не было её там, понимаете?!..
И вот тогда я встал посреди комнаты и поклялся себе никогда не сомневаться в реальности этой истории.
История, однако, имела два необычных продолжения много лет спустя. Или, точнее, «привязки», что ли, «отсылки». Не знаю, как это назвать, судите сами.
Во-первых, несколько лет спустя, один заслуживающий доверия человек, много чего повидавший на своём длинном веку, рассказал мне о спиритических сеансах: как раньше их проводили, что при этом получалось и что не получалось, ну и т. д. Относился он к этому всему максимально объективно, как учёный-исследователь (собственно, он и был им, являясь доктором биологических наук) — и ни в чём не пытался меня убедить. Просто рассказывал. Но на один момент в его рассказах я сразу обратил внимание. Мимоходом он упомянул, что одним из популярных способов «разговора с вызванным духом» являлся следующий: под блюдце подсовывали сложенные листы бумаги, на которых потом, достав и развернув их, находили надписи, сделанные чем-то, похожим на мягкий карандаш. А когда духу отвечали (зачастую дописав ответ на этом же листе), тоже оставляя записки под блюдцем — эти записки исчезали, под блюдцем ничего потом не оказывалось.
Во-вторых, с годами я вырос, закончил школу и поступил в институт, во время учёбы в котором долго и безуспешно ухаживал за одной одногруппницей. Любовь была большая, безответная и несчастная. Но мы, естественно, общались и довольно много — просто как одногруппники. И вот в порядке то ли эмпатии, то ли удобства (я часто писал ей лекции, заполнял за неё всякие контрольные материалы и т. д.) — я начал писать её почерком. Точнее, пытался писать — хотя и преподаватели, и даже одногруппники путались и не могли отличить, где писала она, а где я, и сама эта девушка, и я тоже прекрасно отличали её настоящий почерк от того, что было написано мной «типа её» почерком. То есть подражать её почерку у меня получалось — но не очень хорошо.
Так вот. Этот самый мой почерк, «похожий на её», был крупнее и грубее оригинала. Но, как и оригинал, оставался при этом разборчивым, каллиграфическим. И чрезвычайно напоминал почерк, которым была написана та самая записка (что я, естественно, понял далеко не сразу).
Как сказал один мой друг, которому я всё это рассказал — «где-то в будущем ты создал машину времени и ещё напишешь эту записку сам себе».
Ну, не знаю. В любом случае — это было, произошло в действительности. Как бы я сам сейчас во всём этом ни сомневался.